Мысли в вскользь или эссе — Максим Варданян «Художник и модель».
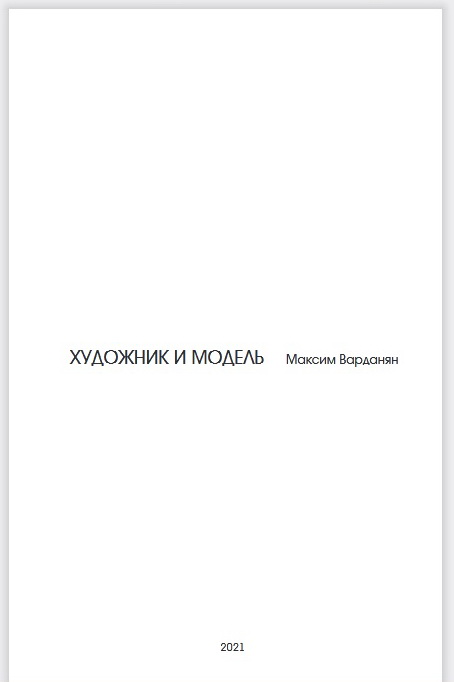
У каждого индивидуума порой возникают в голове мысли, которые можно назвать мысли вскользь. Но, не каждый готов записать, а тем более опубликовать эти мысли.
Так в моменты, когда Максим Варданян не работает кистью и у него есть свободное время, он записывает свои мысли в жанре Эссе. Спросите — причём тут литературный жанр эссе и изобразительное искусство? Учитывая то, что Максим известный художник и он 20 лет жил и успешно творил в Париже (Франция), его эссе довольно таки информативно и представляет интерес для многочисленных почитателей его таланта.
Эссе «Художник и модель»
| ХУДОЖНИК И МОДЕЛЬ Максим Варданян |
| 2021 |
| Эссе |
| Дайме — Музе |
| Дизайнер Тамара Варданян |
| Редактор Людмила Кодзаева |
| 1. |
| *** |
| У Леже — Надя. У Дали — Гала.
У Шагала — Вава и Белла. У Пикассо — Ольга, Дора, Жаклин, Франсуаз. Леже без Нади — не Леже. Дали без Галы — не Дали. Шагал без Вавы и Беллы — не Шагал. Пикассо — не Пикассо — без Доры, Ольги, Жаклин, Франсуаз. А кто был у Экстер? Кто был у Розановой и Степановой? Без кого Экстер — не Экстер, без кого Розанова — не Розанова? Не знаю. V женщин — всё сложнее. |
| 01 |
| *** |
| История болезни:
У Матисса — желудок, у Пикассо — простата, у Модильяни — лёгкие, Климт и Клее — голова. Сутин — печень, Явленский — сосуды, Моне и Дега — глаза, Руссо — ноги, Рубенс — суставы, Ротко — душа, Ренуар — тело. …И только в Сезанна ударила молния. |
| 02 |
| *** |
| Выставка Ротко в Пале де Токио.
Перед входом — фотография художника. V меня был знакомый военврач с лицом художника Ротко. Тяжёлый, депрессивный человек. Мы, молодые солдаты, — его не любили и боялись. Никогда не думал, что увижу это лицо снова. Много лет спустя. На афише любимого художника. Говорят, у Джотто было самое обыкновенное лицо. Совсем — не гения. У Сезанна — лицо ночного сторожа. У Леже — портового грузчика. Шарден — с лицом Рембрандта, Рембрандт с лицом — Шардена. Как будто вовсе и не художники… Обычно стареющие мужчины. Природа зачем-то делает свои обманные движения, отвлекает, уводит в сторону от сути, наделяя любимых героев лицами отставных военврачей. |
| 03 |
| *** |
| Руо сжёг 100 своих картин.
Просмотрел всё сделанное, проанализировал, отобрал ненужное и сжёг. Оставил нам лучшее. За это его не любят галерейщики и коллекционеры. Художникам жест нравится, но и отпугивает одновременно — как справиться с соблазном: жечь надо всё. Зритель к подвигу художника равнодушен. У художника должны быть плохие работы. Иначе, как понять, где хорошие. Баланс вещей в природе. А туг — налицо его нарушение. Вообще, история с сожжением кажется слишком красивой. Наверняка, что-то другое с ними сделал. Сказал, но не сжёг. Огонь. Это так — метафора. Мессаж коллекционерам: не ищите, не найдете, не материально уже. Дым. Чтобы и надежды — никакой! Скорее всего, даже с подрамников не снимал. Смыл или зачистил старую живопись и использовал её подкладкой под будущие 100 картин. Как это делают все остальные художники. Но что это меняет? Для истории искусств — точно ничего. Для истории искусств 100 картин могут только гореть в огне. Высоким высоким пламенем. 04 |
| *** |
| У Френкеля около восьмидесяти моих картин.
Картины — в железном контейнере. Контейнер — на складе. За ячейку на складе он платит — как я за квартиру. В его доме и в его галерее для них уже нет стен, поэтому, основные — в железном контейнере в складской ячейке на севере Парижа. Однажды, он решил перевезти картины из одного склада на другой. Более комфортабельный, как он объяснил. Думаю — более дешёвый. Контейнер выгрузили на складском дворе. Он простоял там ночь в ожидании перевозчика. За ночь — склад сгорел. Уцелела только френкелевская железная коробка. Она нагрелась от близости к огню. Её облили водой, остудили и перевезли на юг Парижа. Несгораемый френкелевский сейф оказался ещё и водонепроницаемым. Этот железный гробик с восьмидесятью моими картинами, похороненный где- то в складской утеплённой ячейке на юге Парижа. |
| 05 |
| *** |
| Артур ругает Пикассо. Артур обвиняет его в трусости. Мэтр Артура — Мондриан. Это Мондрианом Артур мерит Пикассо. Пикассо — вне системы координат Мондриана. В системе координат Мондриана — конструктивная абстракция. В крайнем случае — любая другая. Фигуратив Мондриан изжил. И посоветовал сделать тоже — другим. А неизжитый фигуратив Пикассо по Артуру — самая слабая слабость. Пикассо даже не попробовал сделать этот шаг. Мне нравится беспощадность Артура. Сам Артур говорит, что щадить нужно сильных. Мондриана, конечно. Поэтому — он не щадит Пикассо.
Я Пикассо люблю. Но слабый Пикассо Артура — мне нравится больше моего — сильного. |
| 06 |
| *** |
| Проснулся утром с навязчивым вопросом в голове.
В раю ли Рембрандт? Если да, то что он — Рембрандтов Рай? Рай ли для него Рай? Или держит он раевы своды там так же, как держал земные — здесь? Остервенело и прочно. Можно ли быть таким — там? |
| 07 |
| *** |
| День вернисажа — всегда особенный день. Пограничная полоса. Состояние ограниченной вменяемости.
Когда все ямы уже засыпаны, а шагнуть через них ещё нет духу. Когда все внутренние бури уже прошли, а внешние ещё не начинались. Когда дух уже не сильнее тела. В такие дни со мной всегда происходят мелкие неприятности. Больше физического свойства. Так парижский вернисаж 1996 года. Перед вернисажем бреюсь. Режусь. Ставлю на шею всякие примочки. Кровь сворачивается, и я спокойно надеваю белую сорочку. На вернисаже народ балует вниманием. Почти всему хочется верить. До волнения. Артериальное давление растёт. И — ПАФ! Рана на шее открывается и …пол- белой рубашки в крови. Так вторую часть вернисажа окровавленным и простоял. И, хотя гости в один голос находили много в этом скрытого смысла, и даже чего-то аллегорического, вроде — настоящий художник — это почти рана кровоточащая и прочего всякого бреда в этом же os духе, — верить им уже хотелось меньше. Второй случай. День вернисажа. Бреюсь осторожно. Надеваю белую сорочку. Опаздываю. Спешу. Выхожу из дома. Закрываю за собой дверь. И… ПАФ! Палец остаётся между дверью и косяком. А дверь металлическая. 08 |
| Чугун. Очень скоро палец становится толщиной в три пальца. Чернеет. Уже в галерее чувствую, как кровь кувалдой передвигается по руке вверх и вниз… Но всё чаще сверху — вниз. Поднимаю руку вверх — и нахожу, что это единственное положение, когда сознание возвращается, и все пять литров крови не перераспределяются только в одну конечность.
Так и простоял весь вернисаж с поднятой рукой. Приглашённые и в этой моей новой позе пытались найти скрытый смысл, а ещё позже, после того как нашёлся человек конкретный, который проколол иголкой чёрный ноготь и вся кровь мелкой частой крапинкой покрыла белую сорочку и я, наконец, смог опустить руку, они стали гадать — чего ожидать от вернисажа грядущего. … И вот подмеченная странность: выставки без кровопролитий (а были и такие) проходили как- то вяло, не интересно. Как если бы кровь, не пролившаяся здесь в Париже, уже где-то там — в областях материй более тонких, эфирных, где по-настоящему всё и происходит, не подпитывала животворных сосудов. Как если бы не совершалось — страшно сказать — жертвоприношения. На всё тот же алтарь изобразительного искусства. |
| 09 |
| *** |
| 2005 год. В Лувре идёт выставка персидских ковров. От старых персидских ковров у меня стынет кровь. Нет ничего прекраснее! Запад повесил на свои стены Сезанна и Матисса. Восток — ковры. Да ещё бросил их под ноги, и с лёгкостью прошёлся по ним. Это как Матисса — под ноги!
Один, выводя формулу совершенства, включил в неё стены своих музеев, имея привычку только через постройку пантеонов узнавать своих героев в лицо; другой — стёр все признаки авторской принадлежности, ибо для него в декоративную условность ковровой поверхности явно не вписывалась слишком «безусловная» суета человеческого имени. Вожделённое авторство — с одной стороны, и не менее вожделённое соавторство — с другой. Жажда самопознания — и просто, жажда. Удивительное умение Запада бесформенной субстанции вдохновения придавать чёткую конструктивность и чертёжную завершённость, свойственные скорей архитектуре, чем живописи; и не менее удивительная способность Востока, именно чертежом начиная каждый ковёр, заканчивать дело бесконечным дебошем почти абстрактной живописи, ю Господи! Как бы мне хотелось соединить одно с другим. Наверное, в идеале, мне хотелось бы ткать свои картины. 10 |
| *** |
| — Это возможно… Запросто можно прописать формулу идеальной картины для рынка.
Царенков в этом уверен. Царенков — рыночный маклер. Он торгует произведениями искусства. — Пройдёмся по параметрам: Тема, цвет, размер, техника, пол автора, национальность… — И так по тематике… Лучше всего идут девочки. Дети — вообще, девочки — в особенности. Это — вершина пирамиды. Первое место по продажам. Неоспоримое лидерство. Ступенькой ниже-лошади. Скачки. Ну и, вообще, все сюжеты с лошадьми. Люди это любят. Животных любят. Собаки, кошечки, птички… Но лошади — в фаворе. — Идём дальше… Царенков — безапелляционен. Он сделал на этом деле состояние. — Дальше — цветы. Предпочтительно — букеты в вазе. Но не полевые. Полевые — грустно. Затем пошли морские дела. Клиенты обожают яхты, бухты, маяки… Бушующее море — не пойдёт. Будоражит. Штиль, парус, солнце сквозь лёгкие облака — идеальный сюжет. и Пейзажи, вообще идут неплохо… Натюрморт — не идёт совсем. Ну, если это только не Брак, Леже или Моранди. Да и то… Ну, и окончательный кошмар всех маршанов — сюжет со стариками. Это — табу. Никаких стариков. 11 |
| Табу номер два — религиозный сюжет.
Идём по цвету. Зелёный — никогда. Французы не переносят зелёный цвет. Ни в каком виде. Даже пейзажная зелень деревьев — должна быть любой, но не зелёной. Пример — Пуссен. Чёрный, серый, коричневый — также запрещённые цвета. В остальном — у художника полная свобода. Размер — 30 х 50. Холст-масло. V акварели, темперы, акрила, гуаши, пастели — мало шансов пробиться в верхушку лидеров. Основной покупатель — женщины. Выбирают они. Мужья платят. Следовательно, предпочтительно художнику быть мужчиной до пятидесяти лет. Желательно, французом. И так, подводим итог: Девочка с цветами, собачкой, кошечкой или птичкой на фоне морского пейзажа, или пейзажа вообще, в интерьере, в светлых тонах, холст-масло. Вот она — мечта каждого марша на. Идеальная формула зрительского успеха. Я не спорю с Царенковым. Он — рыночный гений. Таких как он — единицы. Но, если он прав, что же делать со всей испанской живописью, где основной сюжет: голый старик — святой с черепом в руках на чёрном или тёмно- 12 коричневом фоне? Весь Лувр увешан именно этим! 12 |
| *** |
| У Бурдонов сидит Делон. Знаменитый артист недавно открыл галерею в восьмом квартале. Сюда, к Бурдонам, он приезжает учиться сложному и новому для него ремеслу галерейщика.
Научиться этому невозможно, это знают все, но можно посидеть рядом с великими, послушать, увидеть всё своими глазами. Это как художнику — рядом с Рембрантом. Мы Бурдонов знаем давно. Цепочка знакомств привела нас в эту галерею. С Бурдонами нас непосредственно познакомил де Шатене, с де Шатене — Ково, самого Ково мы знаем через Флаков. Цепочка людей для нас настолько обычных, что познакомившись с Бурдонами через них, мы сразу и не поняли куда попали. Так — бывает. Инерция общения передаётся по цепочке и отношения новые начинаются с уже заезженной ноты отношений предшествующих им. Долго Бурдоны оставались для нас полувыжившими из ума старичками. Галерея Бурдонов находилась на бульваре Распай. В округе — больше ни одной другой — уже странно. Это в городе, где всё планомерно-аргументированно. Клоповный запах — внутри. Плетёные обои тридцатых годов, пыль, пакеты «Тати» … хз Но у Бурдонов был большой плюс — они покупали. Что перед этим пакеты «Тати» ? Другие — элегантные и помпезные — не покупали, а эти — клоповые — да. Мы за Бурдонов держались. Регулярно заходили поздороваться. 13 |
| Вот и в этот раз… А тут — Делон… Нам с Даймой не по себе. Делона мы боимся. Кино-Делон давит. Давно, в молодости, я безумно ревновал Дайму к Делону.
Дайма Делоном была одурманена. Кинотеатр «Ватан» был местом наших частых семейных ссор. И, вдруг, здесь — с Делоном за одной партой… Делон был мил, пил чай, больше слушал, чем говорил. Вообще, был тих. От этого — мы боялись его ещё больше… .. .Через несколько лет Делон галерею закрыл. У Бурдонов мы его больше не видели. Дайма до сих пор сожалеет о той встрече. Говорит, что лучше бы её не было. Тихий начинающий галерейщик Ален Делон спутал все её женские карты. Жить с этим ей стало тяжелей. |
| 14 |
| *** |
| Вот здесь — в мэрии пятого квартала наивный художник Анри Руссо вёл музыкальный кружок.
Учил детей и взрослых игре на скрипке. Мы от мэрии нашего пятого округа ждём места в детском саду для Клары. Клара родится только через несколько месяцев. Но в районе садов мало. Свободных мест почти нет. Записываться надо загодя. Так вот, именно здесь, по этим узким коридорам мэрии, где мы с беременной женой сидим в очереди за вожделенным «крэшем», сто лет назад ходил «таможенник» Руссо. Говорят, неплохо играл на скрипке сам. Здесь — учил этому других. Рассказывают, что написал даже экстравагантную оперетту, которую и разыграл с учениками на подмостках актового зала нашей мэрии. Постановка имела успех. А затем… Затем, неожиданно для всех подделал бумаги финансовой отчётности мэрии, сам на себя выписал чек, был в этом уличён, моментально схвачен и увезён прямо отсюда, из нашей мэрии — в «Санте»- парижскую тюрьму — по-соседству через три улицы. Из которой так никогда и не вышел. Необычный конец жизни робкого и наивного художника. is Но, пожалуй, самое загадочное в этой истории для меня следующее: — Вот она, перед нами — та же мэрия, что и тогда, сто лет назад, те же узкие коридоры, те же тысячи мэрских дверей. Скажите, в какую из них — из тысяч — стучаться? 15 |
| Какую бумажку — из тысячи — взять, на каком таком столе и, чтобы она, непременно, оказалась той самой финансовой отчётностью, поправив слегка которую можно было бы приобщиться к распределению материальных благ нашего пятого района.
Как это знал ты, гениальный художник? Кто подсказал? Ведь просто проделать весь этот немыслимый путь — уже подвиг. Кто ты? Кто ты, талантливый во всём наивный художник Анри Руссо? …В «крэше» мэрия нам отказала. Место мы получили только, когда Кларе исполнилось уже два года. |
| 16 |
| *** |
| В агентстве сказали, что клиенты мною довольны. Клиентам нравится, как я веду экскурсии.
А я уже видеть не могу — ни Пикассо, ни Дали… Особенно — Дали. Туристическое агентство Александра III пригласило меня на работу 3 месяца назад. Обычных гидов по Парижу хватало. Нужен был человек с «изюминкой» — как объяснила хозяйка агентства. И эту роль вот уже 3 месяца выполняю я. Моя специализация — 2 парижских музея — Пикассо и Дали. Русские туристы устали от Лувров и Орсеев. Их потянуло на детализацию пройденного материала — персональных музеев известных художников. 30 экскурсий я сводил — к Дали. 20 — в музей Пикассо. Русские туристы предпочитали творчество Дали. У Пикассо — нравилась личная жизнь художника. Агентство настаивало налягать на Дали. Я сопротивлялся — и до моей экскурсионной деятельности я был равнодушен к великому испанскому мэтру. К концу трёхмесячного срока равнодушие переросло в откровенную ненависть. С Пикассо было иначе. Произошёл неожиданный эффект. и Ни один человек в здравом уме не пойдёт в музей даже к любимому художнику двадцать раз подряд. Но, если это, вдруг, происходит, естественно, только насильственным путём, как в моём случае — открывается совсем другой художник. С другими картинами, с другой биографией… 17 |
| Вообще — другой,
И другого Пикассо я полюбил ещё больше. История с агентством к сожалению и к счастью закончилась плохо. На дворе — второй персидский кризис. Картины не покупают. Денег не хватает катастрофически. Но ни ненавистного Дали, ни любимого Пикассо я видеть уже был больше не готов. Предложил агентству другие музеи: Родена, Майоля, русского авангардиста Цадкина. Там бы меня хватило ещё месяца на три. На следующий день мне позвонили из агентства и отказались от моих услуг. На работу взяли моего приятеля — художника. Безупречного любителя испанских сюрреалистов. |
| 18 |
| *** |
| Такая вот жизнеутверждающая конструкция одного моего знакомого режиссера:
«Для меня — всё в жизни чётко и неизменно, — говорит он. Наверху — Бог. Затем по нисходящей: Милу (собака режиссёра), работа, бухгалтер, жена, дети…» Пирамидальная картина мира, которая мне нравится безоговорочно. Пафосно и честно. Но ведь должно быть немного пафосно. На то и картина мира… |
| 19 |
| *** |
| Парижские галерейщики любят рассказывать историю смерти галерейщика Амбруаза Воллара. Всё дело — в её внезапности.
Гениальный галерейщик попал под автомобиль и моментально скончался. В галерее, которую он минуту до трагической смерти закрыл на ключ, остались несметные волларовские богатства. Ключ перешёл к детям. Дети впервые вошли в мир почившего мэтра. Увиденное — превзошло все мыслимые ожидания. Богатства — были… Брак, Пикассо, Меценже, Шагал… Но в немыслимой пропорции: На каждого бесценного Шагала — приходилось по сотне никому не известных художников. На каждого Пикассо — сотни скупленных во всей прилегающей округе рукодельных изделий безымянных консьержек. Великий Воллар — был всеяден. Как к этому отнестись? Что это? Мессаж мэтра? Его блажь? Метр не оставил указаний на этот счёт. Не успел. Дичайшая дилемма для волларовых детей. Волларов ворох жечь? 20 А, вдруг, в нём — неведомая им мысль мэтра. Хранить хлам впрок, как делал сам мэтр? Узнает мир и хлама не простит. Мир знает Воллара — зорким — со снайперской винтовкой в руках, а не блуждающего впотьмах как мы все — остальные любители изобразительного искусства. 20 |
| И дети Воллара решают — жечь. Жечь всё, что не стало до этого дня Пикассо, Шагалом и Дали. Парижским галерейщикам эта история до сих пор не даёт покоя.
Не будь столь прозорливы дети великого коллекционера — что был бы он для нас сегодня? Или так нужно — ненасытно — как он? И только так? И это — закон жанра? И этому — учит их великий мэтр? |
| 21 |
| *** |
| Мы гуляем по Венеции.
Прекрасный город меня раздражает. Мои девочки злятся на меня за моё раздражение. Им хочется получить удовольствие. Я — мешаю. Они в восторге от загорелых гондольеров. Безработные гондольеры, поголовно в голубых женских очках, кучкуются возле своих лакированных плавающих гробиков и пристают ко всем проходящим мимо женщинам. Как все таксисты мира — они нахальные и весёлые. Моим женщинам это нравится. Я — в бешенстве. Но гондольеров — стая; я — один. Они — двухметровые; я — «нижесреднего»… Я им ответить даже не могу… |
| 22 |
| *** |
| Когда в Лувре соорудили вторую — перевёрнутую пирамиду — в моей голове всё встало на свои места. Я, наконец, нашёл объяснение своей любви- ненависти к этому музею.
Вот он, наконец, рисунок сбалансированного пространства. Мир обрёл свои естественные очертания: верх-низ, стекло-сталь, ад-рай. Одна пирамида — в небо, другая — колодцем в землю. Когда-то в 50е годы в Лувр пустили Пикассо, Брака, Миро, Шагала. Но их соседство с классическими образцами искусства показалось слишком смелым. От модернистов избавились. От Брака в Лувре остался один расписанный плафон в ампирном зале. И сегодня он, действительно, смотрится нелепо. Но плафон — не картина — не перевесишь. Наверное, так же происходило и в предыдущие времена. Музей выдавливал чужеродные ему элементы. Брал на пробу и, неприжившиеся, выдавливал. Поэтому — безупречный. Поэтому — стройный. Пирамид в это время ещё не было. Ни одной, ни другой. На их месте росла дубовая роща. Дубовая роща старорежимного музея. С тех пор всё сильно изменилось. Пей поставил два своих стеклянных конуса. Пирамиды обозначили 23 |
| разновекторное развитие современного музейного комплекса.
Лувр сегодня предлагает Египет, Персию, Грецию, Вавилон и Мессопотамию, Монну Лизу и Венеру Милосскую, но также: посмотреть кино, купить открытку, книгу, музыкальный диск, примерить пиджак и галстук, пообедать кухней мексиканской и перуанской, китайской и северо-американской, подстричься, помыться и даже сесть в поезд. Нашим детям всё это безумно нравится. Вообще, в Лувре стало много детей… |
| 24 |
| *** |
| Площадь Сант-Сульпис.
Архитектурная доминанта площади — католический собор с одноимённым названием. В нём — крестили новорожденного Шардена. Затем, жизнь прожил великий художник здесь же, через улицу, на рю де Сен. Вообще, радиус его передвижений по Парижу был крайне ограниченным. Ни разу не переезжал. Работал в пятидесяти метрах от дома — через речку — в Лувре. Отпевали Шардена опять здесь же — в соборе площади Сант-Сульпис. Жизнь, очерченная рамками трёх-четырёх улиц. Малоподвижный человек. Домосед. Как все натюрмортисты. |
| 25 |
| *** |
| «Valeurs sures”. «Неизменные ценности».
Так французы окрестили свои 50-60е годы в живописи. Слегка обесценив тем самым всё, что было — до — и — после. Как будто шкала ценностей в эпохи другие, в «до — и — после» — подвергалась колебаниям куда чаще и куда настойчивей, чем в этот короткий исторический промежуток послевоенного времени. Но что так привлекает любителей искусства в этом временном отрезке? Во времени, за бортом которого в позиции «до» — остались Модильяни, Сутин, все «сюрреалисты», «дадаисты», «дикие», вся «парижская школа». А в позиции «после» — все «новые реалисты», Суляж, Виллегле, Аушебашер. Понять можно. Эпоха, когда живопись ожила своей первостепенной задачей — зажила живописью. Значит ли это, что не жила до этого? Значит. Теперь, став абстрактной, но только по форме, по сути — расслабилась, перестав путать силу воли с силой страсти. Стала лёгкой там, где была тяжёлой 26 — под тяжестью мысли. Отчаянная — успокоилась… и превратилась в широкий тягучий поток. Никогда ещё во Франции не было такого чистого и широкого потока живописи, необременённого и не озадаченного ничем иным, кроме как осмыслением собственной субстанции. Поляков, Николя де Сталь, Атлан, Эстев, Футрие, Базен, 26 |
| Талькустг…
Красивая эпоха. «Валёр сюр» Каждого по отдельности художника этой эпохи бьют Кандинские и Мондрианы без лишних усилий, но вместе, слившись воедино — они создают одно гигантское полотно, неразрывное и без изъянов, которое воссоздаёт нашу мечту о «золотом веке» искусства, беззаботном и лёгком, без титанических усилий, без лишних озарений, но где все — атланты, и никаких гномов. «Золотом веке» — длиною в двадцать лет. |
| 27 |
| *** |
| Конечно, есть родовые черты у представителей и этой профессии…
Художники так же похожи друг на друга — как, например, таксисты между собой. Самые непохожие из них становятся, вдруг, близнецами братьями при ближайшем сравнении с любым членом иного профессионального сообщества. И, конечно, достаточно внимательно почитать историю искусств, чтобы убедиться в правоте этого посыла. О художниках написано всё. Книжный художник не сильно отличается от нынеживущего. Это образ таксиста в исторической перспективе прорисовывается неясно и размыто. И только личный опыт общения даёт нам больше данных о людях этой энергичной профессии. Образ художника — менее загадочен. Более детализирован. Даже художник трёхсотлетней давности предстаёт сегодня перед нами как живой. И чему же нас учит история искусств? Что выдаёт нам в качестве остатка после многократного процеживания столь деликатного 28 человеческого материала? Вот они — неминуемые черты… Вот каким он предстаёт перед нами — среднестатистический представитель этой артистической профессии: Наивным, невинным.., непримеримым, необузданным.., стремительным, методичным, 28 |
| зорким, суровым, самокритичным.., несамокритичным, героическим, грешным, безгрешным, меркантильным, последовательным, непоследовательным, неудержимым, вероломным, мнительным, малоподвижным, аскетичным, деспотичным, нерешительным, трагичным, истерзанным, голословным, оптимистичным, несговорчивым, всеобъемлющим, вседозволенным, неискушённым, искушённым, исчерпывающим, цикличным, целесообразным, циничным, неподкупным, покупаемым, архаичным, предсказуемым, самовлюблённым, самозабвенным всё в одном флаконе.
— Не много ли качеств для одной профессии? — Не мало ли?.. — отвечает нам история искусств. Ибо, это — минимум… Минимум профессией дозволенного. Не слишком ли противоречиво? Вмеру. Ибо — жизненно уравновешенно… 29 |
| *** |
| Мадам Шарден в 1774 году разбила белый фарфоровый графин. С этого года мы не знаем работ великого натюрмортиста, где бы появлялся этот предмет кухонного обихода.
Шарден буквально подошёл к вопросу взаимосвязи жизни и искусства. Сезанн в качестве модели для своих натюрмортов использовал муляжные яблоки. Для букетов цветов — бумажные цветы. И по сегодня мы их видим в его сохранившейся мастерской в Эксе. Другая эпоха — другой подход. Гоген нуждался в Таити. Как после него Марке, Макке, Матисс — в Марокко. Но нуждались ли? Или Таити и Марокко — как муляжные яблоки Сезанна? Повод? Что было моделью Мунка? Мунк говорил — что Сезанн. Сезанн был моделью Мунка — зо Его яблоком, графином, Марокко… Как позже Моне — для Поллока. Как раньше Хокусай — для Моне. 30 |
| *** |
| Гальяно был похож на девочку с усиками. Или на мальчика с косичками.
У него было и то и другое. Выбирать картину он пришёл один. В восемь утра. Хотел — в семь. Картину выбрал не лучшую. Как я бы, наверное, — платье. |
| 31 |
| *** |
| Бурдоны пригласили нас на обед.
Не сказали куда. — Приходите в галерею в два часа. Пообедаем где- нибудь рядом. Что есть рядом? «Липп», «Домаго», «Кафе де флёр». В них водят галерейщики своих художников, издатели — любимых писателей. На время — это сплачивает. Вниз по бульвару Распай — отель «Лютеция». Там замечательный ресторан. Ещё ниже — неплохой ливанский. Всё в радиусе пятиста метров. И всё — обязывает. Оделись — в лучшее. Обедали, действительно, рядом с галереей. Через дорогу. В столовой факультета политехнической школы. В бальных платьях. Воспалённое сознание долго сопротивлялось предложенной форме поощрения. Успокоились, когда узнали, что Делона Бурдоны кормили здесь же. Год назад Бурдоны продали свою коллекцию картин. Они, наконец, выполнили свою земную экзистенциальную миссию маршанов — заработали деньги с максимальной добавочной стоимостью. Аукцион «Сотбис» принёс им четыре миллиарда. На следующий день после аукциона знаменитые 32 |
| маршаны обедали в соседней столовой соседнего факультета политехнической школы.
Со студентами вместе. |
| 33 |
| *** |
| Бурдоны — кошатники.
У них 18 или 19 кошек. В галерее, на полу, около Модильяни всегда стоят пакеты «Тати» с кошачьим кормом. Кошек в галерее нет. Но кошачий запах — всегда. Аукцион принёс Бурдонам четыре миллиарда. Деньги от аукциона пошли в фонд помощи уличным животным города Парижа. Все. До сантима. Отдельно они позаботились о бездомных кошках шестого квартала. Тех, что обитают в периметре знаменитой галереи. Был скандал. Кошачьи миллиарды встревожили умы парижан. Люди обиделись. В наши тридцать лет эта история нам показалась дикой. Как и всем. Сегодня — уже нет. Модильяневские деньги — Неомрачённые успехом… Необременённые славой… Им невостребованные … Не это ли — их удел? 34 Не Бурдоны ли, неведая, воссоздали иллюзию их легитимной последовательности? Не справедливость ли — высшая, пусть в форме смешной и чреватой, показала вдруг всем свой звериный оскал. 34 |
| *** |
| 1989, в Москве, на Крымском валу у меня открылась выставка. А накануне, приснился сон. Деньги. Говорят, что не самый хороший. Но, события тех дней приобрели такой ускоренный характер, а головной мозг настолько не успевал удовлетворять вдруг резко возросшую потребность момента в вещих снах, что здесь на ассоциативные упражнения у него просто не хватало времени. И он выдал картинку — прямую. Первую, не успев замаскировать её всякими обманными движениями. Так и вышло. Деньги пришли. Их хватило на два подарка. Шубу для жены, две бутылки фанты. Для неё же. В Москве в это время фанта уже была. В Ташкенте о ней только слышали. Если потребность в шубе была относительной — (шуба в Ташкенте!..) и подарок носил характер скорее эстетического свойства, то две бутылки фанты задевали уже струны более тонкие и разнообразные.
Подарить бутылку фанты в Ташкенте в эти годы — всё равно, что подарить флакон «Шанель». И пить её рекомендовалось теми же темпами, что и душиться «Шанелью». Как ни странно, и знаком социальной принадлежности фанта являлась более веским, чем шуба, которой жена могла удовлетворить лишь свои личные женские амбиции. Друзья дизайнеры, в один голос, в бутылочных линиях этого солнечного напитка находили невероятно рискованную и сложную игру последних дизайнерских амбиций. Обыкновенная бутылка! Но в те времена им так не казалось. Одним словом, многое сошлось на этом перекрёстке. И такой 35 |
| подучился от этого кавардак, что просто выпить эту жидкость было уже невозможно.
Фанту пили долго. Как только можно — долго. Через месяц, оказавшись вдвоём с женой в Москве — фантой перепились, отравились и больше в рот её с тех пор не брали. Шубу жена надела раз в жизни. Через пару лет её съела моль. |
| 36 |
| *** |
| Свадебным подарком моего прадеда-поляка моей прабабушке был китайский чайный сервиз — 12 фарфоровых чашек и 12 маленьких тарелочек. Во время революции прадед всё потерял. Чудом выжил только китайский чайный сервиз.
Не отягощённые более ничем материальным, прадед с прабабушкой сорвались с места и перенеслись аж за 3000 километров от Варшавы — в Среднюю Азию. Лёгок был их бег. Сервиз почти ничего не весил. Лёгкость в смене географических параметров была присуща и моей бабушке, и маме. Но, так как жизнь редко меняет свои, однажды установленные правила, и в их случае, от перемены мест географических слагаемых, сумма сильно не изменилась. В дебете семьи оставался лишь тот же чайный китайский сервиз. С мамой он переехал в Москву. Со мной — из Москвы в Париж. В Париже мы им никогда не пользовались. Он всегда оставался запечатанным в картонном ящике. …Несколько лет назад во время ремонта квартиры, я случайно сел на картонный ящик. В том же году я начал большую серию картин. С чашками. Природа избегает пустых мест. Она торопится заполнить их чем-нибудь, пусть даже вторичным, эрзацем, жалким подобием, но, непременно, материальным в своей основе, ибо даже угрызения совести — материал слишком эфемерный для этого дела. Газ! 37 |
| *** |
| Флоренция.
Рабочий район. Мальчишки лупят мячом в церковную стену 14 века. Хорошо, что снаружи, а не внутри. Внутри было бы — по Мазаччо. Налицо — все признаки здорового кровообращения истории. Бесценные ей почести… |
| 38 |
| *** |
| Мадам Тибо повезло с генами.
Генам повезло с характером мадам Тибо. Вместе они проделали сложную и изнурительную работу длиною в сто лет. К своему столетнему порогу мадам подошла в здравом уме и твёрдой памяти. Из своих ста — лет сорок она проработала в «Ля Куполь». Кассиром. За своей маленькой пишущей машинкой, выдающей не буквы, но цифры. Природа в лице мадам создала свой показательный механизм, почти неподдающийся коррозии. Отбросила всё ненужное и напускное. Оставила только необходимое — для его нахождения в агрессивной среде обитания. Все прочие механизмы давно вышли из строя, и только этот работал без устали, неся, очевидно, в себе замысел больший, чем просто порыв физиологического вдохновения. Но какой? Какой скрытый мессаж своим бесконечным существованием эта женщина пронесла через весь двадцатый век? Мы с Даймой оценили всё по-своему. 39 Провели прямую линию между «Ля Куполь» и неслучайным фактом того, что мадам — наша нынешняя соседка по лестничной площадке. Через «Ля Куполь» прошли все знаменитые художники 20 — 30 — 40х годов. Ресторан был меккой парижской богемы в эти годы. 39 |
| Мы истово желали знать всё об этой великой эпохе… Сделали шаг…
Пригласили мадам на ужин. Разговорили. Безупречная память мадам Тибо выдала обстоятельный чек: Касуле Кислинга, «Евьян» Пикассо, «Шардоне» Модильяни, фрикассэ Фужиты. Мадам помнила всё и в деталях. Как если бы это было вчера… |
| 40 |
| *** |
| Русские русские смотрят французских русских.
В Москву привезли Полякова, Николя де Сталя, Шаршуна, Явленского, Экстер, Челищева, Чехонина, Анненкова, Ларионова, Гончарову, Шагала, Кандинского… Узнал ли себя русский человек в своём полурусском отображении? Нашёл ли полурусский глаз, в свою очередь, здесь вожделённые признаки утерянного русского рая? В Москве сегодняшней. Ресторанной. Бутиковой. Могучем городе начала третьего тысячелетия. Москва вымостила себя Манежем перед первыми русскими эмигрантами. II Московский антикварный салон. Весь Париж — здесь. Лё Буки — с Поляковым, Злотовски — с Гончаровой, «Минотавр» — с Шаршуным… Старые капиталисты приехали поделиться с молодыми тем, что им по-праву причитается в обмен на адекватную материальную компенсацию. Молодые и задорные русские капиталисты оценив жест, .. .ничем своим в ответ делиться не стали. Товар не взяли. Товар — вернулся в Париж. Шаршуны, Шагалы и Поляковы, побывав на первой 41 — возвратились на вторую, привычную родину их культурной адаптации. У Лё Буков и Злотовски были большие потери по растаможке… 41 |
| *** |
| «Чёрный осёл» — название нашей группы.
«23, rue des Martyrs» — адрес первой групповой выставки. «Улица Мучеников». — Говорящее название. Исчерпывающее. И вот в чём дело… В руки попала книжка. Про импрессионистов. В ней всё, чего в книжке про художников обычно быть не должно. Счета за перевозку картин, распределение хозяйственных обязанностей внутри группы, арендные обязательства, суммы расходов на пригласительные билеты, афиши, стол, алкоголь, вывешенные флаги; доходы: с двух проданных картин, лотереи, томболы, пенята; цена холста и краски на момент события, оплата труда охранника и поломойки… сплошь фактуры и квитанции. Такая — история в цифрах. Мы — вдохновились… Мыслью доступное™ бытового материала из которого была сбита великая идея. Всё — и сегодня под рукой. Плюс, жизнь подыграла: подбросила легковоспламеняющиеся ингредиенты в пылающую 42 топку нашей иллюзии. В виде возможное™ выставочного места и, особенно, Паоло… Выставки импрессионистов проходили в ателье известного фотографа Надара. Паоло, знаменитый фотограф моды, предложил своё — для нашей. 42 |
| «Мучеников» — находится в двух шагах от бульвара Капуцинов.
35, б. Капуцинов — адрес ателье Надара. А, значит, и импрессионистов. Одни совпадения. В них и играем… В совпадения. Кроме … двух. 1. Мы — не Ренуары. Но в тридцать — это деталь. 2. Мы решили спеть хором в момент, когда каждый неплохо справлялся со своей партией соло. У каждого — галерея. Каждый — пристроен. И с этим — уже сложнее. В глазах галерейщиков — наше хоровое пение — блажь. Больше блажи — мы им ломаем рынок. В итоге: чистоты жанра не получилось. Все работы были куплены. Кто-то из игроков этого рынка должен быть умнее: Наши галерейщики — приобрели всё сами. Во избежание рецидивов своих подопечных. Так расправляется с инакомыслием просвещённый век. Эффективно и эффектно. Не скупясь на затраты. В пику — веку девятнадцатому. |
| 43 |
| *** |
| Лувр — лечит.
От Эрмитажа, Уффици, Британской национальной, Прадо. Те — травмируют. Избытком силы. Красотой без меры. Он — щадит. Бинтует раны. Объятиями Рембрандта по-русски душит Эрмитаж. Из всего Рембрандта — он выбрал этого. С артериальным под 220. Лувр другого — гомеопатического. У французского голландца — давление французское. Без гноя — Гойя. Без бездны — Босх. Ровнее обычного — обычно ровный Рубенс. Лувр компенсирует — другим. Экстерьером — интерьер. Благим помыслом — смысл. Стратегией — страсть. Вкусом — волю. Дворцом для Рембрандта предлагает себя Эрмитаж. Филигранной формой флирта — Уффици. Он же — музей. Если музей — то, без сомненья, он. 44 |
| *** |
| С этим городом происходит эффект оптического обмана.
Не зная его — видишь его могучим мегаполисом. Жизнь в нём сужает сетчатку вашего глаза до точки. Покинув — вновь видишь его Вавилоном. Читаем историю: С. Поляков жил на рю де Сен. Ларионов — на рю де Сен. Гончарова — на перпендикулярной рю де Сен — рю Висконти. Бакст — на Бонапарт — параллельной всё той же рю де Сен. Бенуа — на Сен Жермен. Это в 150 метрах от рю де Сен. Ланской — Сен Жермен. Это — только русские художники… Пикассо — на Гранд Агустин. Это 250 метров от не единожды уже упомянутой рю де Сен. Шарден — рю де Сен. Делакруа — площадь Фюрстенберг — 100 метров от рю де Сен. Лувр — через речку. В 100 метрах от привычного уже ориентира — рю де 45 Сен. Когда художника Лё Бран из Лувра отправляли в ссылку — местом сурового наказания ему определили Гобелан. В то время — глухая глушь. Последняя черта города. Сегодня — от Лувра четвёртая автобусная остановка. 45 |
| Что происходит?
Почему мы волчком вертимся на этом крошечном пятачке? Негде было больше селиться? Негде. Это и есть город Париж. 5-6-10 улиц. Маленькая деревня с большим дворцом. До недавнего времени это и было его функциональной частью. До ЗОх — 40х годов двадцатого века. Здесь же, на этом пятачке жили Рассин, Вольтер, Дидро. Сартр и Бовуар на Сен-Жермен де Пре, Оскар Уальд — на Боз-Арт, Сара Бернар и Марат на рю де Медисин… Смущает скорее концентрация вот этого — надстроечного материала на квадратный метр небольшого географического пространства. С этим городом происходит эффект оптического обмана. Удаляясь в пространстве — он увеличивается в геометрической прогрессии. Расстояние сообщает ему его подлинный масштаб: величие Вавилона. |
| 46 |
| *** |
| Метод — выше вдохновенья.
Он — сила художника. Вдохновение — его слабость. Методом — упрямо множат мощь. Вдохновенья — жалко ждут. Случайным избытком сил приходит оно на смену бессилью. И, потому, долгожданное — вопиюще всласть. Вдохновенье себя творцу дарит. Тем самым, умаляя в творце творца. Метод — в творце творца длит. |
| 47 |
| *** |
| На вопрос Воллара, что он делал во время войны, мы имеем ассиметричный ответ Сезанна:
«Во время войны я много работал sur le motif в Эстаке». Сражённый ответом, Воллар ответ художника записывает. Но чем же он ассиметричен? Какого другого ждал он, искушённый галерейщик, а значит уже осведомлённый, а значит уже чтец натур подобной этой, Сезанновой? Или видел в жизни Сезаннов других? Ждал ответа ополченца? Воина? Героя? От него, Сезанна — несомненно архигероя, но воина войны иной. Если уже искушённый — то вряд ли. Рациональный сам, должен был знать — двух сражений одномоментно не ведут. Не функционально. Что озадачило великого галерейщика в ответе художника? Степень безответственности? Ответственности? Одержимости? Бессилия перед внешними обстоятельствами? 48 Силы? Перед ними же? Без сомнения, если осведомлённый — то записал не в назидание, не в осмысление — но в уведомление следующим по этому пути: так, в боевом порядке, форсированным маршем, с забралом ссужающим жалящий взгляд, без отвлекающих ориентиров слева и справа — ступают в 48 |
| сторону эту.
И не иначе… Если о поле битвы идёт речь… Или мотиве в Эстаке. |
| 49 |
| *** |
| Клод Моне во время всё той же франко-прусской войны 70-71 годов нашёл свой мотив в Лондоне. Серией работ Вестминстерского аббатства был озадачен художник в этот военный промежуток времени.
Пиктуральная задача исчерпала себя вровень с окончанием боевых действий на французской территории. |
| 50 |
| *** |
| Фонтэн — де-Воклюз В городке три достопримечательности:
Дом Петрарки, дом палача, дом Мишеля Вевиорки. У Мишеля — мы живём. Два других — дома-музеи: один выдающегося поэта, второй, очевидно, не менее выдающегося палача, раз положен палачу музей. В городке — жителей пятьсот. На пятьсот человек — гений поэт и гениальный палач. В каком повышенном, должно быть, психическом напряжении проживали остальные 498 обитателя здесь свою тихую руральную жизнь! Какой гремучей концентрации был раствор этой темпераментной жизни! Средневековье!.. Сегодня сеизм — спал. Почва места оскудела. Живая жизнь переместилась в Париж. Теперь от палачей и поэтов Парижа нам приходится прятаться здесь-в Фонтэне. У Мишеля. |
| 51 |
| *** |
| Мы у «онкля». На юге.
Неделя каникул. Это «онклевская» плата моих пятидесяти двух недель каторжного труда. Неотвязная мысль: совместный отдых со своим маршаном — отдых или труд? Что есть вознагражденье за совместный отдых? Замок «онкля» — римский донжон. Рядом с замком: руины римского моста, дыра римского рва, римский акведук. Родом из Рима в обозримой географии — почти всё, за исключением самой географии. Она — французский юг. Цикады. Аркадия. Пуссен. Кстати о Пуссене… Любимый «онкля» художник. Вообще, французы Пуссена любят. Говорят- понимают (что в случае с Пуссеном — одно и тоже). По-моему, любовь эта — иррациональна. Любить Пуссена сложно. Нелюбить — незачто. Нелюбовь тоже — лишь градус любви. Техника Пуссена — стерильна. Предложение — противоречиво: неитальянская Италия, в руинах рай — за всю земную выслугу — гроздь винограда и даже не четыре стены. И, всё же, Пуссена любят. Противоречия — игнорируют. Техническое совершенство — прощают. Художник — загадка… Возможно, французам он больше напоминает не живопись, но жизнь… Знакомую. Такую, как эта. С цикадами, онклями, платой за всё и разгулом руин. 52 |
| *** |
| Журналист спрашивает Матисса: «Вы верите в бога?»
Ответ мэтра: «Когда пишу — да». Некорректный. Бестактный вопрос. Мэтр — болен. Он на излёте не творческих, но жизненных своих сил. Журналист это знает. И всё же вопрос задаёт. Возможно, потому и задаёт, что знает. Начало 50х. Эпоха Сартра и Камю — всё в духе времени. Не придерёшься. Жестокие вопросы — в моде. Матисс — в Моде. Несовместимое и так друг на друга непохожее — на мгновение пересеклось и совместилось. В точке пересечения нам осталось разящее матиссовское «да, когда…» Конечно же, это ответ художника. За этими словами трудно разглядеть больного человека. «ДА» так похожее на «нет» — в случае человека. «ДА» — как высшее воздаяние почестей акту творческого горения — в случае художника. Выше не бывает. |
| 53 |
| *** |
| Другой диалог:
Джакометти — Фонтана. Фонтана у мольберта. На мольберте холст. В центре холста — отверстие. Края отверстия вздыблены, вогнуты вовнутрь. Похоже на пулевое отверстие. Это и есть пулевое отверстие. Артист стрелял в холст из крупнокалиберного ружья. «Пишешь?» — спрашивает художника скульптор Джакометти. «Je sculpte… Ваяю» — уточняет сущность совершаемого им процесса художник Фонтана. Смена эпох — кардинальная смена средств самовыражения. Но как же так? Мы всё ещё видим перед артистом и мольберт и холст… Они всё ещё здесь — вчерашние неотъемлемые атрибуты живописного мастерства. И что же? Уничтоженная живописная субстанция никуда не делась — она лишь оказалась вне пределов собственного влияния на душу современного артиста. Всего лишь новый предел её автономного существования ей был положен выстрелом из крупнокалиберного ружья. |
| 54 |
| *** |
| И ещё один диалог…
«А у вас есть материальные возможности заниматься искусством?» Вопросом на вопрос: «с чего начинается обучение живописи?» отвечает молодому художнику Сезанн. Удар ниже пояса. Метр не умел церемониться с людьми. Этот вид человеческой слабости признавал только в области, где церемонии сохраняли для него свою конструктивную необходимость. В живописи, например… Здесь ему не было равных… Субстанция эта, знал он, как молодая особа, девушка из хорошей семьи — требует соблюдения всех необходимых условностей. Пренебречь ими — значит получить в пользование женщину иной социальной характеристики. Здесь, тихий и скромный в жизни человек — художник Сезанн — умел щедро растачать повышенные знаки внимания источнику своего художественного вдохновения. И вожделенная пластическая субстанция, недоступная слишком многим, очарованная натиском художника, отвечала ему неизменной взаимностью. Так, что же другого мог сказать великий художник пытливому молодому человеку имея за плечами опыт общения с суровыми представительницами противоположного пола только подобной этому? Что есть музы другие — лёгкие? Что их можно привести в свои лёгкие, неприспособленные для жизни жилища, 55 |
| и они от этого не перестанут плодоносить?..
Он, человек века девятнадцатого, к счастью, этого не знал… |
| 56 |
| *** |
| Франсис Пикабиа.
Художник и поэт. Поэт и художник. Доказал, что можно быть и тем и другим. Одновременно. Либо чередуя ипостаси. Но сохраняя при этом всё ту же последовательность исходных намерений — художник и поэт. Поэт и художник. Как ему удалось? Не знаю… Меня больше волнует другое: почему не удалось другим? Почему другие однажды решили, что естественное и натуральное — не натурально и противоестественно? Пикабиа единственный пример удачного функционирования поэта — как художника и художника — поэта. Тем более удивительный, что единственный. Двойная жизнь Пикабиа прошла в составлении сборников стихов и написании картин. При меньшем жанровом гнёте, без жалкого деления единой материнской материи на поэзию и живопись, наверное, могла бы пройти в ином режиме: написании картин и составлении сборников стихов. В чём разница? Разве это не об одном и том же? Разница в гнёте! Испепелённая огнём безудержных сражений жизнь ы стоит за безобидным актом блуждающей руки — от холста к листу бумаги, и от писчего листа — обратно в сторону холста. Испепелённая огнём сражений за восстановление всего лишь естества… Нормы… 57 |
| *** |
| Двусторонние картины.
Двуликие. Двухмерные. Дважды в одну реку вошедшие. Обоюдовынужденные. Обоюдоострые. Такие рождаются от крайнего недостатка средств у художника к существованию при переизбытке желания существовать. И тогда художник переворачивает холст и пишет на обратной его стороне. Они иногда встречаются в парижских галереях. Часто датированы 20-30ми годами XX столетия. Годы экономического спада. Годы творческого подъёма. Двуликие Янусы… Каждая последующая за ними работа — непозволительная для артиста роскошь. Предшествующая — роскошь, очевидно, последняя. В пылу ещё себе дозволенная… Их любят. За разное. Зритель — за зрелищность. Наконец, он видит изнаночную сторону жизни артиста. Воочию. Без посредников. Ему объяснили — артист слаб и порывист. Изнанка холста — убеждает его в обратном. На ней второе лицо артиста. Зеркальное отображение 58 первого. В отчаянии — артист не выглядит отчаявшимся. Зритель не видит разительных в его лице перемен. Это озадачивает зрителя. Зритель бы так не смог. Коллекционера влечёт цена вопроса. Количество пиктуральной массы на каждую единицу холста 58 |
| зашкаливает. Цена трагедии артиста — сходна. Работы врозь идут дороже.
Художник же жест художника меряет на себя. Он сам такой. Когда с ним так. Готовый на многое. Если двухмерность способна быть символом веры он за двухмерность. Он знает себя — он порывист и слаб… 59 |
| *** |
| Боевые действия, которые экзистенциально ведёт художник, делают его экспертом по выбору оружия. Иногда выбор падает на обычное — стрелковое. Горячее. Разящее не воображаемую, но реальную цель.
Матисс любил огнестрельное оружие. Стрелял часто. Из ружья и пистолета. По бумажным мишеням. Ники Сан-Фаль была отличным стрелком. Предпочитала помповое ружьё. И мишени выбирала иные. Две страсти были у женщины-скульптора: винтовка и глина. Однажды они должны были найти точки соприкосновения, бродя в едином смысловом сосуде. И нашли. В итоге мы имеем серию её скульптур, изрешечённых пулями крупного и мелкого калибра. Разница калибров — очевидный показатель требовательности артиста к выбору своего рабочего инструмента. Филигранный выбор. Фонтана. Художник и стрелок. По собственным картинам, в том числе. Выбор верной цели, вообще, важнейший элемент стрелкового процесса. В случае пластического артиста — решающий аргумент чтобы взяться за оружие. Выстрел по собственной картине художник воспринимает болезненно. Как в самого себя. Но именно эта форма художественного бо процесса видится ему наиболее искренней. Здесь он играет с огнём. В том числе — в прямом смысле этого слова. Снайперами-любителями были Пикассо и Монэ, Дали и Дюшан… Феномен воодушевлённой пальбы артистами по воображаемым и реальным мишеням, конечно, 60 |
| должен иметь рациональное объяснение. Возможно, всё проще: всё, в чём глазной аппарат находит возможность упражнения глазомера — возвращает ему результат приложенных им усилий в форме привязанности и даже страсти к самому процессу. Очарование тренированной функцией. В данном случае — органа зрения. Путём стрельбы по мишеням. |
| 61 |
| *** |
| Технически несовершенный совершенный наивный художник Руссо технологий не соблюдал. Не ведал, что творит. Результат: через 100 лет его работы — словно сделанные вчера.
Технически безупречные профессионалы Курбе и Жерико — потемнели, пошли кракелюрами, осыпаются на пол чёрным вулканическим песком. Парадоксально — содержание «в чёрном теле» — им к лицу. Сделало их лучше. Придало работам шарм, поэзию, зыбкость. Означает ли это — отсутствие в них зыбкости «до». Означает. Другие работы этих мастеров — не тронутые временем, говорят об этом. Потемневшие же, они приобрели иное качество. О котором не думал и которого не предполагал художник. Но для нас именно оно — истинное. Мы бы не желали возвращения полотен в их первоначальное состояние. Для нас подлинные Жерико и Курбе — эти, чьи доводы — нам неведомы. Поставленные цели — противоречащие зримому результату. И доверия заслуживает только факт: наше желание их видеть испепелёнными. Несоответствие между намерением и реальностью мы прочитываем в пользу реальности. Неправомерной, но близкой по духу нам. 62 |
| *** |
| Живопись так долго не знала женщин в своих рядах, что усомнилась в их существовании. Кроме как в собственной интерпретации объекта.
Долгое отсутствие женского начала сказалось на ней. Не положительно и не отрицательно… Сказалось. Мужественный Рембрант. Женственный Рафаэль. Вот они, два полюса, предложенного ею разделения полов. При этом — оба мужчины. Звенья одной цепи. Возможно, поэтому так долго неразрывной. …Сплошь мужчины. Даже на женские роли. Всё как в японском театре «Но». Живопись так долго не знала женщин, что даже очевидное их явление в ХХвеке сочла собственной оптической дисфункцией. Делоне, Степанову, Экстер — обманом оптики глаз. Привыкнув же — назвала амазонками. Красиво и уничижительно. Летучей стихией на час… |
| 63 |
| *** |
| Воображение рисует Шардена гигантом. Конструкция его натюрмортов сродни многоступенчатости египетских пирамид.
На деле — монументальность — иллюзия. Шарден — художник малых форм. Миниатюрист. Зритель бы желал его видеть в большем размере. Это бы примирило его с мыслью о соответствии величия помыслов — величине затраченных на них сил. Но размера — нет. Величие — есть. Примирения не происходит. Титанические усилия, подвиг артиста делаются экзистенциальным опытом геометрического отрезка пространства размером шкатулки для бус. Жерико — противоположность Шардена. Метод территориальной экспансии исповедует артист. Сотня Шарденов вместилась бы в одного Жерико. Пол-сотни Ватто смог покрыть бы собою один «Плот Медузы». Всепоглощающая магия цифр Жерико. Математика искушения. Ещё одного. Не умаляющая достоинств. Не отрицающая чудовищ. Не прибавляющая побед. 64 |
| *** |
| Анри Руссо — 1844 года рождения.
Репин — его ровесник. Того же года. Современник ли? — другой вопрос. Молодым человеком Репин прожил два года в Париже. Жизнью художника. Пенсионером академии. В Париже писал чернокожих женщин. Не бурлаков. Актуальность всегда была отличительной чертой мэтра. Чёрное — называл чёрным. Белое — белым… Руссо до 44 лет работал на таможне. Восточная таможня города Парижа, та, через которую ординарный русский турист переступает черту великого города. В свободное от таможни время писал чёрных мужчин и женщин, снедаемых жаждой горячечной жизни. Съедаемых ягуарами. Французский художник Руссо… Русский художник Репин… Обязательная таможенная пошлина, оговоренная первым в целях двухгодичного посещения французской столицы вторым — стала, возможно, единственной точкой вероятного соприкосновения двух таких непохожих артистов. В плоскости решения формально-административных 65 вопросов бытия, конечно. О чём ещё другом мог быть у них разговор?! 65 |
| *** |
| Лёгковозбудимый Анри Руссо переживал моменты неконтролируемого экстаза.
Открывал окно. Пытался вырваться наружу. Прочь — из своего ателье и самого себя. Исчерпав возможность, как ему казалось — и того и другого. Удачная работа могла стать причиной эмоциональной вспышки артиста. Потерей равновесия и контроля над собой. Неудач — художник не замечал. От решительного прыжка вниз головой художника останавливала, возможно, лишь перспектива подняться на новую высоту и уже с неё, обретённой, сделать роковой шаг. Она возвращала художника назад в ателье и усаживала вновь за мольберт. Амплитуда поведения знакомая каждому артисту. Различна лишь величина амплитуды движения маятника. У каждого — она своя. |
| 66 |
| *** |
| Под картинами Сержа Полякова в парижском музее Майоля на каменном полу неизменно присутствует линия из свежеосыпавшейся краски. Пол регулярно моют. Цветная пыль появляется вновь.
Современная живопись расширяет диапазон своего присутствия в этом материальном мире выходя за пределы изначально очерченные ей. Даже путём осыпания в пол… Поляков экспериментировал с пигментами и наполнителями. В краски добавлял кусочки земли, зерно, песок. Их то и видим мы на музейном полу. Мало было художнику устойчивых технологий? Что хотел доказать художник обрекая картины на короткую жизнь? Только одно: Современная живопись перестала быть наполнением смыслового пространства. Смыслом — стала сама. Средствами же собственного наполнения избрала, в данном случае: песок, землю, зерно. Элементы в природе базовые. Привычные к заполнению пространств. Распыляющие её границы? Возможно — иначе. Делающие живопись — современной. 67 Буквально. т.е. Не оставляющей ничего на потом… |
| *** |
| Пикассо работал по ночам. При электрическом свете.
Шарден электричества не знал. Работал при свечах. Эль Греко задраивал наглухо ставнями окна. День — делал ночью. Днём тяготясь. Караваджо поступал так же. Тяготясь даже ночью. Модилиани к свету был равнодушен. Мог работать при любом. Гоген — лишь на открытом солнце. При этом парижский адрес ателье обоих — тот же. Монпарнас, 19. Серый парижский двор. Предел возможностей Модилиани. Причина возможностей Гогена. Его Таити. Жаворонки и совы. Совы и жаворонки. Стойкие адепты своих биологических ритмов. Самые последовательные из них. Шедшие до конца. Сделавшие собственную химию — химией творчества. Собой… |
| 68 |
| *** |
| Шагал умер в лифте. Поднимаясь на этаж выше. Николя де Сталь — падая с третьего этажа своего особняка.
Жерико — упав с лошади. Дерен — под колёсами автомобиля. Поллок — не справившись с рулевым управлением, возможно, и не желая справляться с ним. Дали — горя в огне. Огнём земным. Испепеляющим. Сезанн — сражённый молнией. Огнём небесным. Корбюзье — в воде. Заплыв безвозвратно в океан. Паскин и Ротко — в петле. Бюффе — головой в целофановом мешке. Бекон — совершая ежегодний пелеринаж в Прадо. Прошагав целый день по музейным залам. Бесконечно устав от героики прожитого дня и такой же жизни. Необычные заключительные аккорды необычных жизней. Полные символики и смысла. Конечно же — непроизвольных. Если неловко предположить, что непроизвольна была и сама их жизнь. |
| 69 |
| *** |
| Художников-долгожителей в истории искусств много. Они — Тицианов тип. Матиссов…
Долголетие даётся им не наградой, но разумной необходимостью. Функцией. Там, где другим оно — самодовлеющая цель, художнику этого типа — рабочее средство. Мера предосторожности. Дополнительное время в обуздании мечущейся плоти. Её отвлекающих от сути порывов. Менее порывистым — оно не нужно. Цель им ясна сразу. Путь к ней они видят прямой. Времени на дорогу закладывают меньше. Таких, вторых — мало. Как мало в природе ясновидцев. Тип — Караваджо, Ван Гог. Живут — коротко. Долголетие отнимается у них — наградой. За нечеловеческую ясность пути. Непереносимую — длись она дольше. |
| 70 |
| *** |
| Чтобы увидеть Караваджо в Деи Франчези в Риме нужно бросить в автомат два евро.
Автомат выдаёт свет. Две минуты спустя — отключает. Оставляя в соборе бесплатную караваджийскую тьму. Её подобие — в присутствие оригинала. Следующие два евро возобновляют прерванный просмотр… И так — до изнеможения сетчатки глаза. До ряби в глазах… Платная процедура добывания света перед работами мэтра могла бы показаться комичной, если бы не имела побочного эффекта — уместности в случае Караваджо. Частая смена дня и ночи вокруг картин художника продолжается происходящим внутри них: То же ослепление светом. То же очарование тьмой. Та же сценическая завершённость каждого краткого момента… В других римских музеях, на фоне других мастеров, Караваджо кажется слегка театральным. Здесь же — в несомненном театре — едва достигает вершин. «Достоверности». |
| 71 |
| 2. |
| *** |
| Молодой Поляков, побывав в ателье у стареющего Кандинского, сурово отозвался о последних работах великого абстракциониста.
Как раз понимание его былого величия не позволило молодому художнику принять увиденное. Сделать скидку на возраст. Промолчать. Сказал. “Tout са pour са?» (Всё то — ради этого?) — Как жизнь чужую перечеркнул, величия в последних геометрических всполохах мэтра категорически не найдя. Именно результата возрастных изменений жаждал увидеть молодой пытливый художник в ателье великого абстракциониста. Благоприобретённых. Свободных от гнёта физических сил. Тех, что не знают молодые годы. Цедит лишь время. Прозревает гаснущий глаз. Был уверен: только старость художника похожа на подвиг. Делает естественным его. При благоприятном стечении обстоятельств — возможным. Видя упущенную возможность, Поляков реагирует. Молодой — меряет ситуацию на в перспективе обессилевшего себя. Бэкон не менее сурово отзывался о позднем Пикассо. Боготворя его же работы начала ЗОх годов. Причина — та же. Диагноз тот же. Цель — конечно же, он сам, Бэкон. Проекция… нет… диспроекция чужой упущенной 75 |
| старости на себя. Страх старости такой.
Многих собратьев по цеху смущали поздние Дерен и Вламинк. Всех, без исключения — Фужита. Никого — Матисс. Никто Матисса старость и не повторил — закат античного героя — неподъёмную для повторенья. |
| 76 |
| *** |
| Иван Пуни для достижения искомой фактуры на холсте ещё влажные свои работы клал на пол, под ковёр. Звал на ковёр собратьев по цеху. Побуждал к движению по всему периметру ковра. В форме танцев, например… К исходу вечера проводил анализ сделанному — лишь частично, теперь уже собственной рукой.
В основном — чужой человеческой природой, свободной от гнёта всеомрачающей мысли. Результат коллективного творчества небезосновательно называл своим — мало кто из танцующих знал о происходящем у него под ногами. |
| 77 |
| *** |
| Мономану Прусту походы в Лувр давались непросто. Сам Лувр был явно лишним звеном в цепи еженедельно воспроизводимого процесса. Телескопическое зрение писателя улавливало свет лишь одного искомого объекта в позиции, где ослепляют сотни.
Поэтому движение к нему возможно было только с шорами на глазах. Чтобы ни влево, ни вправо от избранной цели. Узким целеобразующим тунелем, не отвлекаясь — к Монтенья. В случае с Прустом — исключительно, к нему. Из всего Лувра — один Монтенья. Из всего Монтенья — один «Св. Себастьян». Читаю: По Прусту «Св. Себастьян» находился в Лувре не там, где мы его знаем сегодня — итальянец — среди итальянцев, в бесконечной сверхлюдной амфиладе второго этажа, но среди французов: Энгра, Делакруа, Жерико. В бордовом зале. Рядом с «Мадам Ривьер», глаза в глаза с «Мадам Рекамье», напротив «Большой одалиски» и дебоша «Турецких бань». Сам француз, и потому не знающий причин неслыханной удачи быть нанизанным на стрелы, 78 но знающий все веские причины им не быть, Пруст упразднял неловкое соседство истерзанного юноши с терзаниями женской плоти по-своему: туннель, слепые шоры на глаза… Мономану Сутину регулярные походы в Лувр давались ещё сложней. 78 |
| Формой аскезы.
Не располагая очевидными, видимыми доказательствами присутствия величия духа, артист готов был принять на веру то малое, что малоубедительно говорило ему о большом. Другого Рембрандта в Лувре просто нет. И никогда не было. Малое же, что было в наличии, убеждало лишь в факте того, что голландский художник не миф и не плод фантазийных абстракций. Усомниться в чём было, конечно же, очень легко — слишком многое в мироустройстве вещей убеждало в обратном… |
| 79 |
| *** |
| Африка возомнившая себя Индией на работах Анри Руссо соединила в себе две части света ровно с той убедительностью, которой располагает парижский ботанический сад. Jardin des plantes. Ни больше, ни меньше.
Дальше него Руссо не уезжал. Другой экзотики не видел. Этой — разбавленных кровей — оказалось достаточной гиперэкзальтированному «наиву», чтобы вообразить себе несуществующий мир. Освобождённый от остатков телесности уже излишних современной живописи для отображения внешнего мира (тем более — внутреннего мира творца) логично теперь уже воспринимая их не источником вдохновения, а то, чем они современному художнику являются по сути — условной реальностью, которой естественно противопоставить свою — безусловную — художник модернист в поисках модели мира согласен на зоосад: предложенных разрозненных элементов — много. Моделей компоновки — ни одной. Гогену понадобилось пересечь полмира, чтобы воочию узреть механику одной из них. во Матиссу — море. Руссо — уже почти ничего — парижский пятый квартал. Смоделированную Африку называл Индией. Был вправе. Рукотворную, мог как угодно называть. 80 |
| *** |
| В ателье Сезанна в Эксе после смерти художника нашли сотни законченных работ. Художник работ не продавал. Не покупали.
У Тёрнера покупали. При этом результат посмертной описи тёрнерова ателье — тот же. Сотни складированных работ. Великий английский пейзажист картин не продавал. Не хотел. Утопичная идея неделимого художественного процесса обоими художниками была реализована в жизнь буквально. Первым — непреднамеренно. Вторым — осознанно. Оба отмечали: дробные свидетельства бессмертия души, соединённые воедино, создавали эффект иной, чем они же, распылённые по сторонам. Эффект протяжённости. Пугающей длины. Жизни без конца. Той, что чувствует, но выразить не может разобщёнными толчками души в себе каждый артист. Но может — суммой… Собранными вместе. |
| 81 |
| *** |
| Сначала скульптура Цадкина стояла у моста «Sully». Кубо-фугуристичный ориентир наших ежедневных пеших прогулок.
Затем её переместили на Quai d’Orsay. К другому мосту. На этот раз «Александра III». Тяготение модернистской железной скульптуры к функциональным железным конструкциям города выглядело логичным. Она выполняла ту же задачу, что и они: в связке они демонстрировали не все ещё упущенные возможности города встретить динамично собственную старость. Следующее направление движения скульптуры по улицам города выглядело не менее убедительно. Старая площадь St Germain des pres. Инъекция «ботокса» если не расправила, то скрасила на миг её мумифицированную маску морщин. Здесь она простояла несколько лет. Затем исчезла. След её пропал. … Нервические метания скульптуры по городским площадям… Новый опыт пространственного мышления кубофутуристического куска металла есть, конечно, ничто иное, как способ познания нового бытия. Прежний — стояния обелиском у истоков Истоки его иссякли — иссякла необходимость остервенело стоять… 82 |
| *** |
| Галерейщиком не рождаются.
Но никогда и не становятся им вполне. Прежняя форма существования избравшего этот путь неминуемо даёт знать о себе. Так галерейщик Френкель в первой своей долгоиграющей догалерейной жизни — дантист. Флак — фармацевт. Висконти — кажется, у него был отель. Дальше по списку… По той же галерейной “rue de Seine”: Бывшие торговцы ковровых изделий, обуви, штор и портьер. Бывший банкир… Хозяин деревни в 1000 душ. Он же — нынешний хозяин слов о штучном товаре — душе артиста. Он же — виконт. Вот он примерный профиль парижского оценщика высокодуховных визуальных пульсаций. Вот он так жадно искомый художником-реалистом этот практик-эстет. |
| S3 |
| *** |
| Артур Аушебашер — сын швейцарского банкира. Отец умер. Артуру остался банк. Своему сыну Аюкуану Артур не оставит ничего.
Банк стал ценою, заплаченной Артуром за богемную жизнь. Лёгкую и страстную. И цену и жизнь. Пламенное чувство творческого горения всегда приходит по жаркому зову, но не всегда покидает зовущего, уставшего от испепеляющего его огня. Иногда в огне сём сгорает жизнь соискателя пламенных игр. Чаще — радость от них. Реже — банк. Артур — редкий случай служителя муз, отделавшийся меньшим злом. Нашедший разменную монету. Не потерявший ни самой жизни, ни вкуса к ней. |
| 84 |
| *** |
| В нашем квартале гильотина стояла на площади “Observatoire”.
Конечно же, не вчера. Но, всё же, не так давно. До конца тридцатых годов. В тридцать втором здесь казнили Горгулова — русского анархиста, убившего французского президента. Из пистолета. В упор. Странный выбор перевозбуждённым славянским умом чужеродной ему французской мишени был не понят никем. Отделение одной седьмой части от горгулова тела сделало фигуру его моментально непропорциональной на глазах у сотен людей, но, одновременно, впервые понятной, фонтанирующей живой тёплой жизнью (суть краткосрочной) но всё же одухотворённой хотя бы на миг. Именно эту картину мог видеть другой анархист. От искусства. Живущий неподалёку. Любитель корриды. На этой — бесспорной парижской корриде могущий быть. В идеале — сам всадником без головы видел истинного творца Пикассо: упругой, резвой, разящей, молниеносной силой, облачённой в панцирь сверхчувственных мышц. Вполне достаточной — для выбора верной цели. Вполне разящей — для достижения её. 85 |
| *** |
| Эстетом становятся, когда природа вынимает талант из рук обладателя его и отдаёт на растерзание глазу. Не забыв стереть при этом память о случившемся.
В полной мере не реализованный в главном, он сохраняет лишь знание цены упущенной возможности. Теперь его экзистенциальная задача: находить в природе вещей — вещь, подтверждающую легитимность существующей уже в нём завышенной оценки, невозможной без понимания причины завышенной самооценки автора этой вещи. Обладая и тем и другим знанием — он лучше всех расположен в объективном обозрении предмета своего интереса. Можно сказать, что он — специалист. Если бы не цена, запрошенная им за сумму усилий: эфемерная. Удовольствие, которое он получил! Художник эстетом не может быть. Руки его заняты делом. Глаз — работой рук. В природе вещей ответом себе он ищет — слово. Выходящее изо рта говорящего, но выдающее, прежде всего, в говорящем глаз. Самая искомая художником траектория мысли. 86 Художник не очень верит, что такая конфигурация в природе есть. Находя же её — испытывает неловкость: удовольствие, доставленное чужому глазу — так мало похоже на счастье, которое он сам испытал от труда! |
| *** |
| Находясь основную часть жизни в четырёх стенах, художник видит базовый её принцип:
объём её больше внутри, чем снаружи. Путь клаустрофоба ждёт на внешних ландшафтах его. |
| 87 |
| Паскин свёл счёты с жизнью прямо перед вернисажем.
Она ему была больше не нужна — всё ещё работающим инструментом после завершённого труда. Её бесчеловечная конечность в главном являлась только доказательством её длины. Как формы жизни. Но не смысла. |
| 88 |
| *** |
| “Матисс — это идеальная траектория: он начал живописью старика, закончил молодого человека”. Слова галерейщика Пьера Лоба перед работами Матисса.
Не знающего ещё, как нарушенный биологический цикл отдельно взятого живого организма скажется на самочувствии всего слабеющего вида. Думал — заразительно. Надеялся — взрывоопасно. На деле оказалось — лишь матиссов подвиг. Великий художник не знал учеников. Логика движений вспять не предполагала фертильность. |
| 89 |
| *** |
| Художник Серж Поляков работал натурщиком. Трудился телом в знакомой ему среде.
Абстрактный художник — в лагере фигуративистов — фигурой стиля. Троянским конём. Сам, не нуждающийся в жалких подсказках природы, собратьям по цеху слабость прощал. Видел — хотят, но не могут без. Моделью познаваемого ими мира — предлагал себя… |
| 90 |
| *** |
| Свободный человек стоит перед выбором — куда смотреть.
Вовне или внутрь себя. Возможность выбора невелика. Быть счастливым или самим собой. Разумный — он открыт миру. Ему интересна чужая жизнь. Волевому — своя. Важен вектор приложенных глазом усилий. Глаз, цедящий навязанные ему визуальные образы извне — пассивно впитывает агрессивную реальность. Но счастлив полнотой нерастраченных сил. Натренированный — предлагает свою. Силой воли разворачивая глазной хрусталик, рисует собственную картину мира. Наиболее мускулистый — рисует картину маслом. |
| 91 |
| *** |
| Живопись — метода обольщения.
Как и все другие. Иллюзия думать, что человеком — человека. Первому не подвластна такая сила воздействия. Второму — не подвластна такая сила восприятия. Потому, что и первое, и второе — суть равные величины. При всех различиях — одно и то же. Предмет обольщения — она сама. Чары обольстителя — в ней самой. Одно проявление её воспламеняется другим. Одно имя, данное ею своему же пламенному чувству — возбуждается другим: Пикассо — греческой вазой. Гойя — Веласкесом. Пикассо — Египтом. Бэкон — Пикассо. |
| 92 |
| *** |
| Если есть визуальный мир вне образов созданных художником, то в чём есть его служба человеческому глазу творца, как ни в счастливой способности жить отдельно от них?
Нерукотворный и необязательный, он образам этим рукотворным — отвлекающий манёвр. Зыбкий и едва ли вполне существующий сам, он им — бесспорным — громоотвод. Так, когда Сезанна спросили, почему он не лечит запущенный диабет — Сезанну, по сути, нечего было сказать в ответ. Глазу Сезанна не за что было зацепиться в предложенных обстоятельствах. Глаз Сезанна не цеплялся за диабет… |
| 93 |
| *** |
| Бегающий трусцой по уграм Пикассо знал, как много нужно для этого дела волевых усилий.
Пьющий по утрам Бэкон знал, как легко при желании он смог бы не пить. При этом, один — не взирая на очевидную волезатратностъ процесса — бежал. Другой — пил. Оба знания мало опирались на жизненный опыт. Оба вписывались в выверенный уже алгоритм бытия. |
| 94 |
| *** |
| Картина — всегда нарушенное личное пространство художника.
Небезосновательно — художник сам туда пустил. Открытый миру, он жаждет внимания к себе. Удовлетворённое — он понимает условием восстановления нарушенных своих границ. Пристальное — разумной нормой для себя. Воспалённое — гарантией здорового сосуществования с собой. Чаще всего, не имея из перечисленного ничего — находит с внешним миром компромисс: взаимно игнорирует его. Успокаивая себя тем, что начал не он. |
| 95 |
| *** |
| Человеческий герой как можно часто старается броситься в смертельную схватку.
Так, он реже остаётся наедине с самим собой. Художник в этой системе координат — антигерой. Ему не место среди резонно волнующихся людей. Что ему их некрасивые кровоточащие раны? У него они прекрасные свои. |
| 96 |
| *** |
| Страх стать декоративной — самый большой страх картины.
Сразу после другого — не быть таковой вовсе. Первый — из опасения быть всего лишь украшением чужой жизни. Второй — не быть украшением даже своей. |
| 97 |
| *** |
| Тернер, желая придать маслу акварельной текучести, втирал в высохшую глянцевую поверхность сухую акварель.
По сути — пыль. Результат обезоруживал: Несовместимое — совмещалось. Текло — не склонное течь. Причин чудесного кровосмешения не искал — шаг за шагом живописец становится осмотрительнее старых коллег. Почти всё уже сделано до него. |
| 98 |
| *** |
| Достигнутое с помощью случая менее ценно в глазах живописца, чем добытое тяжёлым трудом.
Это объяснимо: Есть радость случайного озаренья. Нет озаренью длины. Другое дело, когда труд живописца увенчан счастливой случайностью уже ближе к концу предприятия. Расположение меняет всё. Длину дистанции проделывает здесь труд. Эго художника удовлетворено — он всё сказал. Мера баланса сил соблюдена — он видит — сказанного им мало. Теперь он случая ищет сам. Этот его нервический поиск и обнаруживает, по сути, то главное, что он есть — его стиль. Стиль же, в свою очередь — то главное, что есть в нем. |
| 99 |
| *** |
| Окна ателье Дебюффе выходили на кладбищенский двор.
У Пикассо на рю Шольшер — та же картина из окна. Кладбище Монпарнас. Эрбан всему эфемерному и проходящему так же предпочитал вполне завершённую модель бытия. Мир иной. При этом никто не собирался умирать. Наоборот. Выбор вида из окна делался осознанно. Искомой гигиеной для глаз. Ясное понимание того, что картина — всегда только форма, возбуждает в художнике необходимость обозрения чётко очерченных условий существования физических форм. Знание этих пределов — дарит пространство манёвра внутри них. Шаговая их доступность — упреждает от лишних шагов. Удалённость обещанных перспектив — сообщает зрению зоркость. Их, увы, неизбежность — уму. |
| 100 |
| *** |
| Рассказывают, что Бранкузи из Румынии в Париж пришёл пешком.
Босиком. Ногами, сбитыми в кровь. Выбранная форма передвижения, очевидно, отображала силу испытываемой им страсти. Потому, как нет ничего более неожиданного, чем она, такая, в эпоху железных и шоссейных дорог. Потому как, всегда есть кто-то, кто своим диспропорциональным поставленной цели усилием воли освежает само чувство цели. Его силу. И только через него уже — как таковую цель. |
| Игорь Андреев не знаком был с подвигом Бранкузи. По наитию его повторил.
Более того — приумножил. Стиль интерпретации советским моряком страстных позывов румынской души отличал русский размах: бросился за борт плывущего корабля. Вплавь пересек ледяной залив. На истерзанных в кровь ногах прошагал пол-Европы. Босиком и художником вошел в вожделенный Париж. |
| 101 |
| *** |
| 1926 год. «Оранжерея».
Последняя выставка Клода Монэ. Первый этаж «Оранжереи» — Монэ. Гигантские декоративные панно. Второй этаж — Салон декоративных кошек и собак. Первый — пуст. Ко второму — не подойти. Очевидный успех селективного восприятия мира и его превосходства над организацией жизни более консервативной. Жёсткосмоделированной. Выбранной раз и навсегда. Очарование малых форм бытия… Неприкрытая тяжеловесность больших… |
| 102 |
| •kick |
| Художник — пейзажист. Художник — баталист.
Художник — анималист. Человек-функция. Одна. Не маниакальный. Мономан. Часть человека, ставшая целым. Лучшая часть. |
| 103 |
| *** |
| Жак Канья купил работу Зао Ву-Ки.
Не для частного — для профессионального себя. Повесил в ресторане на rue Christine. Решил — работе будет лучше здесь. Стало грустно. Картину китайского художника — жаль. Чем лучше? Чем только оптикой глаз?.. В своё время Ротко предложили оформить ресторан. В нью-йоркской системе координат — первый. По сути — общепит. Ротко согласился. Деньги авансом взял. На заработанное уехал в Рим. Гигиенический ежегодний пелеринаж в Вечный город прервал судьбу заказных картин. Паломник, очевидно, прозрел. Телеграммой из Рима всё начатое отменил. Оформлять рестораны зарёкся. Деньги вернул. Через год Канья пригласил нас посмотреть на За By Ки. По-прежнему в ресторан. На рю Кристин. Ели вкусно. За By Ки висел в хорошей компании. На лучшей Ю4 стене. Мир не рухнул. Связь времен не пресеклась. И, все же, в абсолюте, в душевном равновесии, в абстрактной тишине, объекту материальной проекции смысла своего существования на чужие стены каждому художнику хотелось бы участи иной. Без тени сомненья, стен иных. 104 |
| *** |
| Спрашиваю Ково кто его любимый художник.
Ответ, конечно же, маршана: Пикассо. Не удивительно. Кто же маршану другой?.. Из нынеживущих — точно никто. Не из кого… Из отживших свое — принявшихся за чужое, нынеживущим не оставившим шанса на жизнь — из таких — он. Из других — жаждой пожиже, классически ясных — тоже он. Ибо свойствами многолик. Средствами многообразен. В любой категории, где он есть — он. Категорий, где его нет — нет. В результате — безальтернативен. Бессменен. По-прежнему прав и зол. Точно так, как в любой пищевой цепи — победители, правы и злы |
| 105 |
| *** |
| На первые приличные заработанные деньги Фуджита купил эмалированную ванну и душ, Матисс мастерскую в Исси-ле-Мулино, Соня Делонэ — автомобиль.
Ценовая масса объектов, по всей видимости, первейшей необходимости составляла, с учётом временных приоритетов, приблизительно схожий вес. Пикассо на ту же сумму, наконец-то обретённого материального равновесия, закупает краски на несколько лет вперёд. Всё вырученное пускает в оборот. Привычку вкладывать в перспективные предприятия в дальнейшем сохранил. Преуспел. Стал богат. Разрушил невинную веру в каноническую неподкупность души. С подкупленной безукоризненно просуществовал. |
| 106 |
| *** |
| «Роле» для Дали был возможностью показать аппетит. V Пикассо не было «Ролса».
Был «Паккар». Лучше «Ролса». Но принужденный думать и двигаться как «Роле». Ибо, целевое назначение обоих — одно. Ибо, опыт достижения цели — несоизмерим. Роль «Ролса» в жизни Дерена была иной. Сводилась к максимальной полноте восприятия лишь того участка жизненного пути, который он пересекал на нем. Так как были другие. Менее вычурные. Те, к которым был более адаптирован пеший ход. И если бы эта, экономная, пошаговая форма передвижения способна была в глазах людей являть собою так же удачу и успех, как делал это английский автопром, то ближе к верному определению Дерена стояла бы именно она. Так как «лучший» — фовист — Дерен ходил пешком. Так как «худший» — предпочитал английский автопром. |
| 107 |
| *** |
| Французский фильм с субтитрами про Пикассо. Диалоги с мэтром. Субтитры с французского на французский. Потому как о том, что говорит мэтр понятно только ему самому.
Не хочется верить в услышанное. Спрашиваю испанца Ково как другой испанец в жизни говорил на чужом ему языке? Ясно — глаз Пикассо сглазил начисто французский изнеженный глаз. По аналогии — с ухом французским, испаноязыкий, сделал что? По Ково — ничего. Был архиэнегоёмок. Сил испанских не распылял. Все яйца метил в одну корзину: сам автомобилей не водил. Жён подолгу возле себя не держал. Слов чужих всуе не произносил. |
| 108 |
| *** |
| Ежедневная близость к вершинам духа.
Отсюда почти интимное отношение к ним. Морис Ково — специалист по «маслу». Акварелям Родена в гигантском доме маршана не хватило стен. Хватило на кухне и в ванной комнате. Расценил трезво — они тоже дом. |
| 109 |
| *** |
| Ещё одна работающая модель: в живописи старый Эстэв упорно повторял то, что когда-то нашёл Эстэв молодой.
Ничего не менял. Не улучшал. Лишнего не привносил. Однажды найденное — длил. Результат? Противоестественный и счастливый: состарился молодым. |
| 110 |
| *** |
| «Жиль» Ватто написанный для парижского блошиного рынка, в конце концов, для блошиного рынка оказался слишком хорош.
Попал в Лувр. Обрёл вторую, более достойную жизнь. Правда, через 200 лет. Очевидно, что промахнувшийся мимо изначально заявленной цели, живущей успешную, но не им выбранную жизнь, «Жиль» — классический пример планирования художником своей судьбы. Во всём. Насколько успешно «до» и «вовремя» написания работы, каждый художник, увы, знает сам. Насколько «после» — учится по Лувру. |
| 111 |
| *** |
| Если бы маньяку Анри Дагеру вздумалось вдруг усомниться в своём психическом здоровье, отвлёкшись от начатого холста и задаться вопросом, не маньяк ли он, душа его, более чуткая и привычная к проявлению мысли художественной, должна была бы наплывающую эту новую мысль отогнать. Ум вернуть в прежнее нездоровое русло. Руку вернуть к холсту.
Ибо, не об этом должен задумываться глубокий и истинный служитель муз. К счастью, вопросом подобным художник и не задавался. Был искренен. Находил понимание. Понимание ценил. Как отклик души чужой находит и ценит любой живописец сам чистый душой. |
| 112 |
| *** |
| «Помпиду».
Похожие как две капли воды работы Брака и Пикассо. Что один из них Пикассо, другой Брак, выдают лишь условия развески работ: один — не есть, в принципе, то, что есть рядом другой. Что это? Временный сбой двух автономных систем? Брака и Пикассо? Или, напротив, системы куда более цельной. Без Брака и Пикассо. Той, что вот так, иногда, наглядно рисует простую жестокую правду артисту о том, что материя — целое; суть — одна; и по сути единой этой — ничто ни на что не делимо. Ни на, в том числе, Брака. Ни на Пикассо. |
| 113 |
| *** |
| Раздвоение личности.
Возможность сожительства с другой половиной самого себя лишь при наличии почти деспотических черт. Так, парижский художник-абстракционист Серж Шаршун в поисках чистоты решения вопросов добра и зла в себе самом твердо решил: для рынка он — чистый фигуративист; для чистой совести своей — абстракционист . |
| 114 |
| *** |
| Психи, так привлекавшие Дебюффе, в своем творческом порыве, как ему казалось, были куда более свободны, чем он сам.
Не будучи природой замыслен как они, но желая частично их свойствами обладать, частично он должен был бы стать как они. Возможно, лучше понять механику их сложного тела, залезть в их кипящий мозг, не впасть там в соблазн, в кипящем соку не свариться. Частично. И только, наверно, тогда почувствовать новую живость движений и лишнюю легкость руки. |
| 115 |
| *** |
| Треть Лувра — толпы голых женских тел.
Треть — голых греческих мужчин. И треть — святых. Следящих за телесною борьбой двух греческих полов. В остатке — натюрморт. Портрет. Пейзаж. Остатки в Лувре — сладки. В них, может быть,- весь Лувр. |
| 116 |
| *** |
| На последней стадии артроза Явленскому привязывали строго подогнанные кисти к кистям недвижимых рук.
Артрознику Ренуару делали то же. При этом работы обоих этого периода — не сравнить. Французский художник страдал отсутствием рук. Русскому художнику руки в работе были практически не нужны. Степень практикуемого мастерства открывала возможность виртуозному русскому живописцу легко отказаться от применения лишней уже в формировании нового языка назойливости рук. Стадия заболевания лишь вынуждала сделать это. Первое — про трагичность происходящего. Второе — о величии происходящего. Не исключающего, кроме всего прочего, и артроз. |
| 117 |
| *** |
| Пикассо мало ел.
Когда ел — больше риса и овощей. Из двух — больше овощей, чем риса. Пил много минеральной воды. Не давал иссушить бушующему внутри огню своё тело и мозг. При этом — курил. Мало спал. Когда спал — не ночью. Днём. Вёл сбалансированную, но очень по-своему сбалансированную жизнь. Во всём… В живописи шёл от фигуратива к абстракции. Не дошёл. Повернул вспять. Понял о живописи всё. Понятым решил пренебречь. |
| 118 |
| *** |
| Пьер Лобб о Бонаре на Парижском Осеннем Салоне, пленённый новизной, идущей со всем увиденным вразрез:
«Здесь прав либо Бонар, либо весь остальной Парижский Салон». Подавляющее большинство работ салона — абстракция всех оправданных геометрией и способов геометрию глазом преломить физических форм. Подавленное большинством меньшинство — Бонар. Единственный на салоне фигуратив. Думали — уже миф. Думали — несуществующий. Живому физическому французу — какой-нибудь бестелый древний грек. Ошиблись. Весь — в теле. Как раз именно в этом. Одной из возможных освежающих формул эпохи модерна — древний грек. |
| 119 |
| *** |
| Академическая живопись была предметом вожделения наивиста Руссо.
Если бы в идеале ему предложили переконвер- тироватъся из наива в академизм — художник незамедлительно бы согласился, всё собственное тотчас бы отверг, и этим предложенным в одночасье бы стал. Жгучий пламень души и наивного тела с лёгкостью обменял бы на освежающий лёд без души. Но идеала нет. Художник мирился с тем, что имел. Все той же владел неверной рукой. Распространялся в пространстве всё тем же тяжёлым и тёплым телом. Пламенел наивной душой. |
| 120 |
| *** |
| Впадая в транс во время работы, Руссо технично выходил из него — не выходил из него вполне. Так механизм возбуждения позволял завести себя с пол- оборота вновь.
Удержанная организмом часть отпугивала людей, но привлекала муз. Нежный пол в виде человечьих безжалостных форм — сторонился Руссо. В бесформенном же своём состоянии тот же пол — к Руссо льнул. Здесь женская сущность искусства сквозила во всём, выделяя для длительной славы в природе людей исключительно нервных и страстных с пол-оборота мужчин. |
| 121 |
| *** |
| Китайская художница Жиа Жуан Ли, будучи не в силах совладать с собой оттого, что ещё меньше была в силах совладать с реалиями парижской рыночной жизни, подписывала свои малолюбимые, компромисные этой жизни работы набором нецензурных слов.
Зритель написанного чистой душой, тяжёлым сердцем и чужой иероглифической вязью не понимал. Компромисную с ним живописную часть — ценил и потреблял. Когда крик китайской души однажды был, наконец, услышан, а текст на работах прочтён — искренность оценили. Обидного в словах не нашли. Нашли правду жизни. Правду тотчас подняли в цене. Так как любой живой и пронзительной ноте живописца есть, вне всяких сомнений, своя цена. |
| 122 |
| *** |
| Любимые художники Ван Гога:
Монтичелли, Миме. Для Сезанна, страстного ходока по Лувру, из всего караваджийского, гоевского Лувра любимые — Лё Нан, Веронезе, Пуссен. У Бекона — Пикассо. Исключительно, тридцатых годов. Его «Пляжный период». Из всех перенапряжённых периодов Пикассо — этот, расслабленных кровей. Если из любимых художников любимых художников был бы создан музей — собрание работ побудителей к созданию более стройных концепций завело бы зрителя-не-художника такого музея в причинно- следственный тупик. Удивился бы он сколь малое количество пищи искушённому глазу необходимо для регенерации побудительных сил. Сколь неприхотлив пищи этой может быть рацион. |
| 123 |
| *** |
| Во время войны голодный Вламинк впервые позволил себе воспользоваться своим безупречным глазомером не по назначению, минуя искусство как цель, преследуя целью более прямую возможность заработать на хлеб. Подделал хлебные карточки. Был быстро пойман. Разоблачён. Посажен в тюрьму.
Ещё больше морально унижен, так как ввиду дилетантства содеянного, скоро освобождён. Произошедшее с ним воспринял болезненно. Предвзятой формой оценки своего ремесла. Но, конечно, больше другим. Скоростью и точностью оценочною сей. Так жадно и тщетно искомых им прежде, когда дело касалось живописных его работ. Так мало полезных сейчас. |
| 124 |
| *** |
| Дочь Миро в день смерти отца подняла цены на его работы в несколько раз.
И нисколько не ошиблась в эффективности выбранной стратегии. Работы легко ушли. Внучки А. Бенуа, получившие через поколение в полном объеме работы деда, полный объем же передали дальше по семейной цепи. Отчаянно нуждаясь в деньгах, не продали из них ни одной. Не знали, что так можно. Не знали, так же, что так нельзя. Искреннее неведенье заменило им обычно изнурительную в таких случаях работу духа. В отсутствии у сюжета сих сил — природа дала другие. Дали детей не завел. Решил не расширять привычный объем контролируемых им границ. Матисс завел. Из берегов вышел. Контроль потерял. Сын стал галеристом. Т.е. экзистенциально самым грубым ответом вселенной художнику на его материальный запрос. Т.е. то ли жертвой героически прожитой жизни художника, то ли, по сути, и факту профессии — ее палачем. 125 |
| *** |
| Вламинк в свои 35 — бесспорный гений.
В 50 — художник средней руки. В 60 — уже всего лишь любитель. Воскресный художник. И то… Обычный воскресный художник, не обремененный опытом естественного ежедневного самовозгорания и тот самозабвенно уверен, что каждый раз он пылает священным огнем в дни отдыха у других, в дни просветленных трудов для себя. Вламинк — обремененный — видим — и не уверен и отпылал. Ван Донген. Гений в 30. Затем — не гений, но все же долго еще кристальной, непорочной чистоты. В 50 — не вполне кристальной. В 60 — не вполне чистоты. Матисс в той же системе координат: гений, не гений, в 50 — совсем никакой. В 80 — такой, что стынет кровь. Что это? Разве все не как у коллег? Та же динамика возрастных изменений. Весь набор составных элементов и тот — тот. Порядок элементов другой. Как-будто в порядке все дело. Как-будто последовательность их и есть та доступная мера свободы, к которой стремится художник — вполне достаточная для того, что бы делать как надо то, чего хочет он. 126 |
| *** |
| Триптих «Танец» Матисса в пятидесятые годы был найден в холодном парижском гараже.
Очищен от скверны. Приведен в прежний вид. Помещен в «Токийский дворец». На свое более точное место. В свой образный ряд. Позже, чем нужно. Но, неумолимо. А разве не это, в конце концов — принципиальная позиция искусства по отношению к жизни? Позиция несомненного концептуального превосходства, раз в некий момент своего слабосилья та — всеохватная — допускает гараж. |
| 127 |
| *** |
| Эстет и лучший галерист Парижа Канвейлер был очень строг, но точен в распределении ролей: велел своим художникам зависеть от судьбы. Труд не зависеть от нее — посильный, легкий и земной — брал на себя. |
| 128 |
| *** |
| Вламинк говорил про счастье, испытываемом им при написании картин.
Бэкон говорил о страдании, которое доставляет ему этот же процесс. Грустные и горькие плоды счастливого мастерства одного были не менее востребованы, чем яркие всполохи излишних терзаний другого у понимающих в живописи людей. Так счастья привлекателен в глазах людей любой каприз. |
| 129 |
| *** |
| Первый, овальный зал — зал Сутина.
За Сутиным — зал позднего Ренуара. Затем — Лоренсен. За ней — Дерен. Большой зал Руссо. За Руссо — Модильяни. И венцом всему — зал умного Пикассо двадцатых годов. Маленький, но феерический парижский музей «Оранжерея». Глаз сопротивляется только позднему Ренуару и вечномолодой Лоренсен, но здравый смысл подсказывает — неудобоваримо будет без. Потому что без — оглушительная шоковая терапия. Не для слабонервных. На фасаде музея высечено: «Коллекции Поля Гиёма и Валтер». Из двух частных коллекций сбита одна нынешняя государственная. Речь о первой её составляющей. За ней стоит криминальная история: перед второй мировой жена знаменитого коллекционера Поля Гиёма травит Поля Гиёма. Она травит нелюбимого мужа. Вовсе не из-за коллекции. Но наследует именно её. Вполне конкретную коллекцию первоклассных картин. 1зо На неё туг же падает подозрение… Некстати начинается война. Следователь уходит на фронт. Воюет. Но чувство незаконченного дела терзает опытного профессионала даже на передовой. С окончанием войны дело травительницы-вдовы возобновлено. Вина доказана. 130 |
| Вдова — в камере смертников — ждёт встречи с гильотиной.
Справедливость … Но не во всём. Конфискованная коллекция картин вот-вот уйдёт с молотка. Скорее всего — в американские руки. Идёт 1947 год. Послевоенные европейские цены на произведения искусств — минимальные. Американцы скупают всё, что плохо лежит. Коллекция Поля Гиёма в 1947 году — лежит плохо. Без сомнения — бесценная — она покинет границы республики. Чрезвычайная ситуация — чрезвычайная мера найдена для выхода из неё. В камеру вдовы приходит президент Четвёртой Республики Винсент Ориоль. Вдове он делает необычное предложение: жизнь в обмен на дарственную всей коллекции в пользу государства. Вдова — дарственную пишет. В обмен — ей длят её жизнь. Рачительный президент Республики… Благоразумная мадам Гиём… Достигнутое взаимопонимание двух умных людей дарит городу этот маленький шедевр в парижском парке Тюэльри. 131 |
| *** |
| Теперь о другой составляющей той же музейной коллекции.
На фронтоне музея высечена ещё одна фамилия — Валтер. Во второй своей жизни экс-мадам Гиём — уже мадам Валтер. Неправдоподобная история приобретает реальные свои черты и обрастает плотью, когда её, сомнительную, — пускаешь по второму кругу. Пост-помилованная мадам, под натиском непрерывных атак своей богатой натуры, даёт вновь волю мудрёным закономерностям своей судьбы. Мадам опять теряет мужа. В этот раз — под колёсами автомобиля… Опять наследует коллекцию… На мадам падает подозрение… К мадам приходит Мальро — министр культуры… Мадам — отписывает коллекцию… Загадочная мадам Гиём-Валтер… Женщина, прожившая несколько невозможных жизней — во благо одной шедевральной коллекции маленького музея в парижском парке Тюэльри. |
| 132 |
| *** |
| Картина — товар.
Но одновременно — таковым неявляющаяся. Художник жадно желает и люто боится видеть её в этом качестве. Картина — смысл жизни художника. И художник стыдится назвать цену смыслу своего существования. Это унижает творца. Дилемма, делящая его жизнь ровно надвое: На райские кущи. На адские муки. Он вынужден приспособиться к жизнеобитанию и в той и в другой агрессивной среде. При хорошем кровообращении системы — переход из одной в другую почти незаметен. |
| 133 |
| *** |
| Художник как метроном повторяет заученное движение:
от нематериального — к материальному. И — обратно. Тысячи раз он должен пройти этот путь в обе стороны пока не получит в итоге свой искажённый материальный слепок с абстрактных форм душевного огня. Обычно, чем выше пламя — тем выше риск неминуемых погрешностей. Художник не контролирует величину этих погрешностей. Кто контролирует? Он знает — не он! Степень соответствия этого искажения — внутреннему оригиналу — и есть его талант. |
| 134 |
| *** |
| Картина — это окно во внутренние уделы художника. По мазкам, линиям и окружностям на его поверхности мы тщимся понять характер обитателей этого скрытого от нас мира.
Ведает ли сам художник — кого пригрел он в себе? Какого рода зверушки пасутся в его тёплом, тёмном загоне на заднем дворе — часто лучше не знать. Порой дикого зверя выращивает он там. Но отдадим ему должное: чаще скрытые демоны терзают его самого. Редко он их выпускает на выгул на волю. |
| 135 |
| *** |
| Любовь художника к своим работам — коротка и лучезарна.
Но всё же коротка. Предыдущей — он предпочитает — последующую. Предыдущую работу художник любит уже меньше, чем она того заслуживает. Покупатель картины, наоборот — более чем… Он оформил своё чувство в материальную плоть выбранного им холста раз и навсегда. Его любовь — долговечней. Чувство — постояннее. На этом диссонансе восприятия и держится рынок искусства. Галерейщику, как посреднику, удобно подобное предвзятое отношение двух сторон к предмету приложения его коммерческого таланта. Из трёх участников предприятия — он единственный, кто относится к картине трезво. Когда-то, в исторической перспективе, в этой связке отсутствовало ключевое на сегодня звено — галерейщик. Ещё раньше — покупатель. Художник об этом знает и помнит. Законно чувствуя себя первопричиной предприятия, последовательный — он требует повышенного внимания к себе. Непроигнорированное это требование и является основной платой за его труд. Галерейщик предпочитает — деньги. Клиент — берёт картиной. 136 |
| *** |
| Инстинкт движет художником.
Ни глаз, ни рука, ни сердце… Потому, что сердце, рука и глаз — мышцы. А мышца — всего лишь эластичный канат, один конец которого тычет в мысль, другой — в объект осмысления. Не может жар творчества исходить от эластичной верёвки, пусть даже и натянутой как струна. Мышечная масса мозга так же мала масштабу притязаний творца. Вертлявым и взволнованным зверьком, заточённым в черепной коробке, огрызается он на поставленную ему задачу. Мал диапазон его действий. Велик диапазон его соблазнов. Только инстинкт — вероломный и слепой, целеобразующий и целенаправленный, — тот, что затмевает разум и застилает взгляд — ставит всё по своим местам: глаз творца он делает органом мысли. Мозг творца он делает органом страсти. Руку — инструментом атаки. Силу — инструментом покоя. Всё как в природе. Дикой и опасной… Но, неизменно, излучающей жар. 137 |


Комментариев пока нет, вы можете стать первым комментатором.